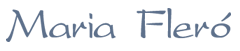Некоторые вопросы мне хочется, не церемонясь, задавать себе прямо в лоб, чтобы потом найти деликатный и красивый ответ. Например, такой вопрос: «Какова роль матери в жизни замужней дочери?»
Остается ли она матерью, как в детстве, или превращается в «подругу своей дочери»?
Да, мать – это святое, но как ощутить свою дистанцию с родителями или новое чувство притяжения по мере своего взросления?
Нет ли кощунства в тайных размышлениях молодой женщины, что её мамы «бестолково много» в её жизни?
Нет ли предательства в отношении матери, когда мы «покидаем её и прилепляемся к мужу»? И, когда муж начинает «морщиться» (проявлять недовольство) в отношении вашей мамы: приструниваем ли мы маму? Или мужа? Или тихо страдаем, и наше сердце разрывается пополам?

Встреча первая:
…Ксения – маленькая девочка. Ей всего 7 лет. Она пришла ко мне в гости со своей мамой, и мы мирно беседовали за чашкой чая. Ксения не пожелала участвовать в общем разговоре, постоянно требовала внимания к себе. Она уже два года занимается художественной гимнастикой, и для неё лучший способ обратить на себя внимание – показать что-нибудь «такое да эдакое» – с легкостью сесть на шпагат, сделать легкие кувырки и мостики. Вот и сейчас началось её «ломание» (их домашнее слово) - она «честно» продемонстрировала перед нами фрагмент гимнастического танца к предстоящему выступлению. Я подчеркнуто не обратила на её движения внимания (репетируй, сколько хочешь!), Ксения рассердилась, залезла на кухонный стул и начала громко читать стихотворение Пушкина…
Но с моей стороны не последовало никаких оваций, мы не прекратили нашей беседы, и Ксения начала откровенно злиться. Она с шумом спрыгнула со стула, уронила его и громко заплакала, что, якобы, защемила палец, хитро подглядывая за нами из-за сомкнутых перед глазами ладошек.
Ксенина мама быстро простилась, извинилась за дочкино поведение, и они вскоре ушли домой. Ксения была рада, её мама подавлена. В этот же вечер она позвонила мне и попросила совета, как прекратить «самовыступления» дочери, которая, став «гимнастической звездой», приобрела черты демонстративного поведения и постоянно не к месту устраивает концерты «самолюбования» и «самоломания»?

Этот семинар задумывался уже давно. Я ранее писала в статье «Демократическая каша» о том, что при столкновении с трудностями личного характера очень сложно отделить собственно психологическую проблему от социальной. Например, женщина чувствует себя очень несчастной в браке, не подозревая, что у неё ярко выраженный «неравный брак» - и она, и её муж воспитывались в разных социальных контекстах, как сказали бы раньше, вышли из разных сословий, и признают противоположные социальные ценности. И их конфликт – в разнице социальных установок и мировоззрении, а не в проблеме мужского и женского взаимопонимания. И развивать в семье надо не толерантность, а правильно устанавливать приоритеты, сознательно развивать тот или иной социальный уклад.

Случай из практики:
Таня за последнее время не ладит со своей мамой. Мама живет в Питере, Таня с мужем и дочкой – в Нижнем Новгороде. Маме уже восемьдесят два года, проживает одна в двухкомнатной квартире. До последнего времени стойко переносила все недомогания и старческие болячки. А тут вдруг загрустила, «собралась умирать», как объяснила мне Таня, и все их недолгие встречи, когда она приезжает в Питер навестить маму, посвящены выяснению того, «что где лежит, и что следует делать», когда мама умрет. Мама в Нижний переезжать категорически отказывается, и к себе дочь с внучкой не зовет – привыкла жить одна, никого своей персоной не беспокоить…

Эту фразу я слышу довольно часто от мужчин, которые обращаются ко мне за индивидуальной консультацией. Я слышу эту фразу не от опустившихся мужчин, или находящихся в поисках своего жизненного предназначения, а от мужчин зрелых, состоявшихся, четко понимающих свою ответственность и обязательство перед семьей.
Я всё время пытаюсь проникнуть «за» эту ситуацию: «Я разучился жить». Мы же не разучиваемся ходить, бегать, глотать или жевать с того момента, когда мы овладели этим навыком. Да, если этот навык, например, при травме, будет утерян, мы знаем, что делать, у нас есть мышечная память, та степень овладения собой, которая нас не подводит в трудную минуту и спасает в безвыходной ситуации.
Умение жить для мужчин не обладает мышечной памятью. Оно, как мне кажется, относится к родовой памяти, какой-то древней тоске по правильному, душевному, мягкому состоянию, когда жизнь как бы складывается сама собой, без дополнительных усилий, легко и счастливо. Нет, не во внешнем мире – здесь борьба и выживание, а именно дома, когда все дела сделаны, «мамонт убит», мужчина радостно спешит домой и понимает, что его любят и ждут. Но вдруг волшебным образом он обнаруживает, что именно дома он ничего не умеет, он оставлен Богом, забыт, неуклюж, нелеп, от него домашние ждут что-то такого, чего он не в состоянии «изобразить»…